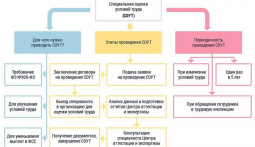В современном мире, где сняты многие барьеры для межкультурных контактов, стало очевидным, что люди из разных культур отличаются друг от друга. Для описания этих психологических различий в отечественной публицистике широко применяется термин менталитет.
Несмотря на то, что понятие менталитет прочно вошло в обиход, его точное определение остается неясным. Авторы различных статей сходятся на том, что менталитет — это интегральная характеристика людей, проживающих в определенной культуре. Ментальность отражает особенности восприятия окружающего мира и специфику реакции на него.
Несмотря на то, что термин менталитет происходит из западноевропейской традиции, попытка опереться на специальную иностранную литературу для его дефиниции вряд ли будет эффективной. В англоязычных психологических словарях mentality определяется как качество ума отдельного человека или группы людей, способность или сила разума, образ мыслей, направление мыслительной деятельности и так далее. Однако эти определения отличаются краткостью и разнородностью характеристик, что свидетельствует о недостаточной научной проработке понятия.
В отечественной философской и культурологической литературе предпринимаются попытки дать более развернутое определение менталитета. Чаще всего менталитет понимается как совокупность представлений, воззрений, 'чувствований' общности людей определенной эпохи, географической области и социальной среды. Однако такое понимание практически отождествляет менталитет с массовым сознанием, что делает этот термин излишним.
При анализе менталитета (коллективной ментальности) важно понимать, что он описывает специфику восприятия внешнего мира, которая обуславливает способы реагирования большой общности людей. Ментальность — это явление умственного порядка, но не идентично общественному сознанию. Она характеризует специфику этого сознания по отношению к другим группам людей, например, этносу, нации или социальному слою. При этом следует отметить, что осознаваемые элементы менталитета тесно связаны с областью бессознательного (а возможно, даже основываются на ней).
В самом общем виде менталитет можно определить как характерную для конкретной культуры (субкультуры) специфику психической жизни людей, детерминированную экономическими и политическими условиями жизни в историческом аспекте. Это определение частично пересекается с понятием национальный характер, которое может описывать набор основных личностных черт представителей нации или систему основных представлений, установок, верований и ценностей, присущих данному этносу.
Чтобы разграничить эти понятия, следует выделить психологические феномены, в которых менталитет проявляется. В данной статье рассматриваются лишь различия в ментальности представителей постиндустриальных культур, а сравнение их с традиционными культурами остается за рамками анализа. Культуры современной технологической цивилизации имеют более тонкие различия, прежде всего в когнитивной сфере. Эти различия обусловлены особенностями социальной жизни (господствующая идеология, уровень развития производства и т. д.), природными условиями (климат, ландшафт), а также физиологическими особенностями сравниваемых народов (уровень возбудимости нервной системы и т. д.).
Таким образом, содержание менталитета заключается в когнитивной сфере и определяется, прежде всего, знаниями, которыми владеет изучаемая общность. Знания вместе с верованиями составляют представления об окружающем мире, которые являются базой менталитета. Вместе с доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного они задают иерархию ценностей, характеризующую данную общность.
В структуре знаний важную роль играют перцептивные и когнитивные эталоны (а применительно к общественным отношениям — социальные нормы). Эталоны регулируют поведение и вместе с ценностями характеризуют менталитет культуры. При анализе реальных фактов эталоны становятся критериями выносимых оценок и определяют систему умонастроений и взглядов на мир. В упрощенном виде эти взгляды и оценки предстают как стереотипы сознания, а в сфере общественных отношений — как социальные стереотипы.
Определенное взаимоотношение между явлениями действительности и оценки этих явлений отражены в языке, который является одним из объектов анализа при изучении менталитета. Важно обратить внимание на различия в значениях, которыми в разных культурах наполняется одно и то же понятие. Например, демократия имеет разные смыслы в разных общественных системах.
Специфика когнитивной сферы отражается и в мотивационной. Система доминирующих мотивов в большой социальной группе детерминирована иерархией ценностей и отражает убеждения, идеалы, склонности и интересы представителей данной общности. Эти факторы являются социальными установками и могут считаться одной из основных характеристик менталитета нации или социального слоя. Все неосознаваемое содержание менталитета, отличия во взглядах на мир, которые становятся заметными только при сравнении с представителями иной культуры, представляют собой набор социальных установок.
Ментальность, относясь к когнитивной сфере личности, наиболее отчетливо проявляется в типичном поведении представителей данной культуры. Она выражается, прежде всего, в стереотипах поведения, к которым тесно примыкают стереотипы принятия решений. В этой сфере следует выделить стандартные формы социального поведения, заимствованные из прошлого — традиции и обычаи.
Типовое поведение, характерное для представителей конкретной общности, позволяет описать черты национального или общественного характера, которые складываются в национальный или социальный тип. В упрощенном виде эти типы предстают как этнические или классовые стереотипы.
Таким образом, менталитет как специфика психологической жизни людей раскрывается через систему взглядов, оценок, норм и умонастроений. Эта система основывается на знаниях и верованиях данного общества и задает вместе с доминирующими потребностями и архетипами коллективного бессознательного иерархию ценностей. Это, в свою очередь, определяет убеждения, идеалы, склонности, интересы и другие социальные установки, отличающие данную общность от других.
Национальный характер, понимаемый как специфическое сочетание устойчивых личностных черт представителей конкретного этноса или как доминирующие в обществе ценности и установки, является лишь частью менталитета как интегральной характеристики психологических особенностей людей, принадлежащих к данной культуре.
Изучение национального характера и различных социально-психологических типов личности имеет длинную и интересную историю. Многие великие писатели пытались описать национальный характер в своих произведениях. Однако эти описания, несмотря на иногда поразительную точность, чаще всего фрагментарны и не могут претендовать на всестороннее описание менталитета.
Проблемой общесоциальных особенностей людей разных эпох и общественно-экономических формаций занималось множество ученых. Этнопсихологические наблюдения можно найти в трудах Геродота, Тацита, Плиния, Ксенофонта и других античных историков. В XVIII веке (Ш. Монтескье, К. Линней, Ж. Бюффон и др.) возник подлинно научный интерес к этой проблеме. Однако лишь в 1859 году X. Штейнталь и М. Лацарус предприняли попытку создания психологии народов, т. е. собственно этнопсихологии. Они считали, что у каждого народа существует единое сверхличностное сознание, народный дух. Позже эта точка зрения была оспорена В. Вундтом, изучавшим язык, мифы и обычаи как продукт коллективной деятельности народного ума. Он считал, что единой коллективной души не существует, а изучать следует коллективную творческую деятельность индивидов. Эта дискуссия не оставила равнодушными и российских ученых, которые старались изучать не психологическую специфику этноса в целом, а механизмы социального взаимодействия, обеспечивающие интеграцию продуктов психической деятельности отдельных элементов этноса.
Наиболее серьезная проработка проблемы национального (а именно русского) характера была проведена на рубеже XIX и XX веков учеными (Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Г. П. Федотов и другие). Они стремились философски осмыслить природу человеческого духа в контексте отношений человека с Богом и государством. Трудно оценить, насколько верно они описывали характер русского народа в ту эпоху. Был ли он настолько мистичен и религиозен, как считал Н. О. Лосский, или так аскетичен, как писал Н. А. Бердяев? Здесь следует задать вопрос: куда девалась религиозность людей, легко принявших материалистическое учение и смирившихся с жизнью, в которой постоянно нарушались главные христианские заповеди? И все ли русские ограничивали себя в потреблении материальных благ или это касалось только бедных слоев населения?
В то время в России не проводились социологические или социально-психологические исследования, поэтому оценивать истинность сделанных восемьдесят лет назад выводов можно лишь по косвенным данным. Однако заложенная традиция оказалась настолько сильна, что даже с появлением точных методов, позволяющих измерить и количественно описать психологические особенности этноса, работы современных исследователей практически основаны на экспертных оценках.
В качестве примера можно привести статьи Р. Бистрицкаса и Р. Кочюнаса, Л. Я. Гозмана и А. М. Эткинда, В. Е. Кагана, Б. И. Кочубея и др. Они касаются не русского национального характера, а специфического менталитета, который сложился у граждан Советского Союза за семь десятилетий истории. Следуя за Э. Фроммом, авторы описывают психологический тип личности, формирование которого зависит не от географических условий, а от конкретного типа общественных отношений и модели социально-экономической формации.
Некоторые наблюдения, упомянутые в этих работах, весьма интересны, однако предложенные авторами выводы представляются далеко не бесспорными. Обычно подобные работы оцениваются по двум критериям: логичности и правдивости. Считалось достаточным, чтобы все построения были выполнены с соблюдением правил формальной логики, а выводы представлялись истинными. Однако научное сознание (не говоря уже об обыденном) имеет тенденцию пользоваться стереотипами. И далеко не все эти стереотипы (например, русские много пьют или политика — грязное дело) соответствуют действительности. Поэтому, если относиться к предлагаемым выводам строго научно, то общегуманитарные построения следует дополнять экспериментальной проработкой вопроса.
Недостаточно просто постулировать, надо еще и доказать, что советские люди (особенно в 70-80-х гг.!) ощущали включенность в движение по магистральному пути мировой цивилизации и что они ощущали свое превосходство над порочным и не признающим очевидных истин миром. Точно так же недостаточно описать теоретическую конструкцию под названием советская личность, указав, что ей свойственно невыделение себя из мы и что ее единственная целевая функция — стремление к власти и повышение своего статуса. Для того, чтобы предложенная гипотетическая модель обрела права психологического гражданства, необходимо проверить реальную самоиндентификацию и проанализировать структуру социальных целей у людей, отобранных по четким и объективным критериям их соответствия советскости.
Описание характера ментальности конкретной исторической общности можно найти также в трудах историков и этнографов, изучавших специфику русского быта (И. Е. Забелин, С. В. Максимов, И. П. Сахаров, И. П. Ровинский и другие). В этих работах встречаются интересные замечания о специфическом отношении к миру представителей описываемого этноса. Однако авторы подобных работ, в соответствии с другим предметом своих исследований, не уделяли большого внимания обобщенным психологическим характеристикам, ограничиваясь констатацией отношения различных слоев населения к тем или иным сторонам жизни в конкретный исторический период.
Стремление заполнить существующий в исторической науке вакуум знаний о психологическом облике наших предков привело к появлению исследований, целью которых является реконструкция духовного мира человека прошлого. Общим оценкам ментальности представителей различных эпох посвящены работы отечественных историков и культурологов, развивающих творческое наследие М. М. Бахтина и французской школы Анналов.
Выполненные историками фундаментальные труды, позволившие реконструировать физический, интеллектуальный и моральный портрет ушедших эпох, несомненно, войдут в сокровищницу человеческой мысли. Однако естественная ограниченность статистически значимых средств исторического анализа побуждает ученых делать выводы с помощью эрудиции, а также воображения. Связанная с характером проводимого анализа достаточно высокая произвольность выбора тех или иных событий в качестве ключевых приводит зачастую к весьма спорным умозаключениям по поводу психологических особенностей современников этих событий.
Попытки преодолеть низкую статистическую достоверность выводов предпринимались (в том числе и в нашей стране) историками, использующими квантификационные методы исследования. Исследователям, сконцентрировавшим свои усилия на изучении нарративных источников и канонических религиозных текстов, удалось получить результаты, имеющие статистически значимый характер. Однако следует отметить, что контент-анализ источников, предлагаемый авторами в качестве основного метода исследований, также (хотя и в меньшей степени) предполагает произвольное толкование полученных данных, поскольку основывается на достаточно произвольном выборе индикаторов проводимого анализа.
Опытной проработкой указанных вопросов пытались заняться и представители других наук, в частности социологи. Для определения отличительных характеристик советского человека были проведены десятки, если не сотни, как ортодоксальных, так и неортодоксальных исследований. К сожалению, срезы общественного мнения показывают обычно поверхностную картину содержания обыденного сознания, отражающую ситуативные социально-экономические приоритеты граждан. Даже в наиболее взвешенных социологических исследованиях, посвященных советскому образу мыслей, как правило, не учитывались разнообразные мотивы людей, не говоря уже о глобальных человеческих ценностях, знание иерархии которых в изучаемой общности совершенно необходимо для правильной интерпретации ответов респондентов. Следует также отметить, что и сами вопросы, закладываемые в анкеты, являются в большинстве случаев разноуровневыми и не репрезентативными всему кругу оцениваемых явлений.
Огромное количество (в том числе и экспериментальных) работ, позволяющих делать серьезные выводы о менталитете, написано лингвистами и психолингвистами. И это понятно: ведь где, как не в языке, наиболее полно представлен внутренний мир человека — во всяком случае, его когнитивная сфера. Языковая ментальность — это способ деления мира с помощью языка, достаточно адекватный существующим у людей представлениям о мире. Однако, несмотря на то, что анализ языка позволяет весьма точно выявить культурную специфику отношений людей к окружающей их действительности, в нем отсутствует возможность установления причин, побуждающих людей придавать значимость одним аспектам явлений, игнорируя при этом другие.
В числе строго доказательных работ, касающихся менталитета в целом, нельзя не упомянуть работы В. А. Лефевра, который с помощью математической логики описал функционирование двух принципиально отличающихся друг от друга этических систем людей. Одна эти
Поделиться